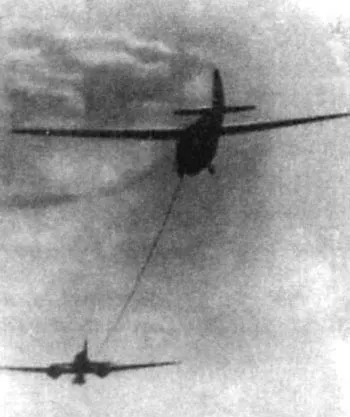
В ноябре 1940 г. нарком обороны маршал С.К. Тимошенко утвердил новый штат воздушно-десантной бригады, по которому в ее состав вошла планерная группа. Но в то время ВВС не имели ни десантных планеров, ни пилотов для них.
Для подготовки последних в 1941 г. создали Саратовскую военную авиационно-планерную школу (СВАПШ). Ее сформировали на базе школы, с 1940 г. выпускавшей летчиков на самолетах Р-5. Начальником СВАПШ был сначала майор Я.В. Уткин, а затем подполковник М.С. Одинцов. В качестве инструкторов задействовали спортсменов-планеристов и летчиков-испытателей. Курсантов набирали в основном из аэроклубов Осоавиахима.
К началу Великой Отечественной войны в СССР велись разработки трех моделей планеров: небольшой А-7, более вместительный Г-11 и тяжелый А-20, которые дорабатывались и запускались в серию в ходе войны. Подробнее о советских десантных планерах можно прочитать здесь.
Первоначально планеры разрозненно поступали в воздушно-десантные бригады и иногда использовались для рутинных перевозок между фронтом и тылом, а также вдоль фронта в интересах наземных войск и ВВС.
В феврале 1942 г. несколько самолетов Р-6 перелетело на аэродром Стрыгино в Горьковской области, где уже находились несколько планеров и планеристы из СВАПШ. В начале марта туда дополнительно перебросили планеры Г-11 и А-7. Так был сформирован 1-й отдельный авиационно-планерный полк (1-й оапп). Позже иногда его называли 1-м учебным авиационно-планерным полком (1-м уапп). Подчинялся он командованию Воздушно-десантных войск. Две эскадрильи полка насчитывали по десять экипажей самолетов-буксировщиков, а также по 60 пилотов-планеристов и соответствующее количество планеров.
В качестве буксировщиков использовали самолеты ПС-84 (Ли-2), СБ, ДБ-3Ф (Ил-4) и Р-6. Первые два, оснащенные более мощными моторами, могли тянуть по два планера А-7 или Г-11.
В конце лета 1942 г. на одном из аэродромов Московского военного округа состоялся смотр десантной техники. Приехало высокое начальство. Для него организовали показ головокружительного номера: посадочный десант в составе 20 планеров А-7 и Г-11 на маленькую площадку. Планеры приземлялись не только на полосу, а по всей площадке. После высадки солдаты с криками «ура!» побежали к месту расположения гостей. Эффект был огромный. И это — без единой тренировки в групповом полете! То, что обошлись без травм — просто чудо…
В августе 1942 г. в Киржаче (Ивановская область) приступили к формированию 2-го учебного авиационно-планерного полка (2-й уапп). Полк имел буксировщики Ил-4 с комплектом планеров А-7 и Г-11. В августе 1943 г. эта часть стала именоваться 2-м отдельным авиапланерным полком (2-й оапп).
В боевых действиях авиапланерные полки стали участвовать тем же летом 1942 г., доставляя грузы и диверсионные группы к брянским партизанам. Но эти полеты были единичными и не носили систематического характера.
ОПЕРАЦИЯ «АНТИФРИЗ»
Первая крупная операция с участием планеристов проводилась в конце осени 1942 г. Она известна под названием «Операция Антифриз». Главное управление тыла Красной Армии перед наступлением под Сталинградом поручило планеристам доставить для танков антифриз, который значительно повысил бы боеспособность техники морозной зимой. В операции задействовали практически в полном составе две эскадрильи 1-го оапп. Самолеты разных типов тянули по одному-два планера. Они прибыли на аэродром Тейково в Ивановской области.
Группой планеристов командовал подполковник Д.А. Кошиц. В Г-11 загружали шесть бочек по 200 л, в А-7 — три. Возможно, что на каких-то этапах пути использовали один или два КЦ-20. Перелет осуществлялся через Саратов, где на аэродроме СВАПШ выполнили промежуточную посадку. Там же пополнили парк планеров и буксировщиков, использовав местные экипажи. Планер Кошица на взлете в Саратове отцепился. Пилот был болен, и его оставили, а планер дальше повел И. Малофеев.
Маршрут пролегал через Энгельс и Красный Кут до озера Житкур. Планерные «поезда» прикрывались с воздуха истребителями ПВО Саратова, Энгельса и дежурными звеньями Качинского летного училища. От Красного Кута до Житкура местность была малонаселенная и почти безориентирная. Слабая видимость и сплошная облачность усложняли полет.
Один из планеристов вспоминал: «Карабкались к Сталинграду «на пузе». Были моменты — не поймешь, где небо, где земля, и в каком положении я между ними. От усталости через час уже в глазах двоилось. Ниже пояса тело коченеет — кабина-то фанерная, со щелями! — выше пупка весь в горячем поту… Через час такого чертова полета наступило безразличие. Хлопнусь — ну и черт с ним! Но потом взъярился, ощетинился, взял себя в руки: не порадую фрицев, не огорчу маму, долечу!»
Летчики и планеристы спешили доставить антифриз к линии фронта. Десятки грузовых планеров приземлились в районе станции Котельниковская и обеспечили танки незамерзающей жидкостью.
Не всем пилотом удалось долететь до цели: кого-то сбили вражеские истребители, кто-то разбился при посадке на прифронтовой площадке, под артиллерийским обстрелом. При заходе на посадку погиб лейтенант Р. Григорьян. При вылете из Саратова он прицепил планер к самолету не одним, а двумя тросами. Это его погубило: тросы переплелись и в нужный момент не отделились от планера. Пришлось садиться с тросами. При подходе планера к земле они задели за препятствие и опрокинули аппарат на спину.
От 2-го уапп в «Операции Антифриз» участвовали 12 буксировщиков Ил-4 и столько же планеров. Они базировались на аэродроме Щелково в Московской области. 10 октября 1942 г. планеристы этого полка доставили в район озера Житкур 14,5 т антифриза и 60 огнеметов.
В подписанном заместителем наркома обороны приказе от 9 декабря 1942 г. говорилось: «С 12 по 16 ноября 1942 года подразделения авиапланерных полков ВДВ КА выполняли специальное оперативное задание Главного управления тыла Красной Армии по доставке груза Сталинградскому фронту. Переброска на планерах в таких масштабах проведена впервые и, несмотря на отсутствие подготовленной трассы, техпомощи и опыта в продолжительных полетах, экипажи справились с задачей хорошо.
В стремлении доставить груз во что бы то ни стало, пилоты летели по 5 часов без посадок в условиях ночи, снегопада и тумана. Отдельные планеристы совершали перелеты в исключительно тяжелых условиях погоды на высоте 10-15 метров.
За отличное выполнение оперативного задания объявляю благодарность и награждаю месячным окладом… старшего сержанта Ворошилова, лейтенанта Круглова, старшину Родина…»
ПОЛЕТ В ЛЕНИНГРАД: СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
Весной 1943 г. планеры пытались использовать для доставки грузов в осажденный Ленинград. В один из мартовских дней аэросцепка в составе буксировщика СБ и планера КЦ-20 взлетела с одного из аэродромов. В кабине планера находились двое: старший лейтенант В. Чубуков и старший сержант М. Ильин. Они должны были приземлиться на аэродроме подскока, взять там груз и отвезти его в Ленинград.
К аэродрому подскока подошли на рассвете и увидели, что вся площадка изрыта свежими воронками от бомб, а вместо посадочного «Т» на поле выложен красный крест из полотнищ, запрещающий посадку. Вернуться возможности не было — буксировщик энергично покачивал крыльями, требуя немедленной отцепки планера из-за малого остатка горючего. Чубуков дернул рычаг буксировочного замка, и планер по пологой глиссаде заскользил к изрытому бомбами полю. Коснувшись колесами заснеженного грунта, огромный КЦ-20 несся вперед, лавируя между глубокими воронками.
Перед самой остановкой нос планера завис над очередной воронкой, но не свалился в нее. Выбравшись из кабины, Ильин подобрал с подтаявшего снега цветной цилиндрик и попробовал прочесть немецкие буквы. Подбежавший красноармеец крикнул: «Брось, это мина замедленного действия-лягушка!» На ватных ногах Ильин отошел от планера и осторожно положил мину на землю. Она взорвалась, когда планеристы и боец отбежали метров на 100…
Самолет-буксировщик также удачно выполнил посадку. Но на рассвете следующего дня немецкая авиация вновь бомбила аэродром. Ущерб был велик. Планеристам была дана команда: забрать экипажи буксировщиков, самолеты которых сгорели, и готовиться к обратному вылету. Полет в Ленинград был отменен из-за потери самолетов и грузов в результате налета. Желающих улететь оказалось больше, чем мест в КЦ-20. Но, в конце концов, кое-как разместились и взлетели, с трудом оторвавшись от земли. Далее полет прошел без происшествий.
ПЛАНЕРЫ В ОПЕРАЦИЯХ СНАБЖЕНИЯ
В дальнейшем основной сферой применения советских десантных планеров стало снабжение партизанских отрядов. В Кремле состоялось заседание Центрального штаба партизанского движения (ЦШПД) с участием командиров отрядов. На заседании было принято решение о широком использовании авиации и десантных планеров для доставки грузов партизанам.

Первая крупная операция такого рода проводилась в марте 1943 г. В руках белорусских партизан находился Бегомльский аэродром, где и производилась посадка. Планеры летали и в другие места, где базировались партизаны.
2-й уапп был придан 3-й воздушной армии на Калининском фронте. Полеты выполнялись с аэродрома Старая Торопа. На летном поле самолеты и планеры, словно на параде, были выстроены в ряды на линии предварительного старта. Стальные тросы длиной 95 — 110 м примыкались концами к замкам на хвостах самолетов и к носам планеров. Замки пломбировались. Если буксировщик не привозил из полета трос или прилетал с нарушенной пломбой, то пилот мог попасть под трибунал «за преднамеренную отцепку планера».
В качестве буксировщиков использовались самолеты СБ, Ли-2, ТБ-3 или ДБ-3Ф (Ил-4), иногда применяли Р-6 или истребитель «Харрикейн». Ли-2 и ДБ-3Ф, имевшие более мощные двигатели, могли буксировать сразу пару А-7.
Ли-2 сам являлся транспортным самолетом. При буксировке одного планера в его кабину брали некоторое количество груза в парашютных десантных мешках. Их сбрасывали после отцепки планера, на втором заходе. СБ и Ил-4 иногда несли мешки на бомбодержателях. Позже в планерные полки передавались также трофейные самолеты, такие как Ju 87, Не 111 и Ju 88. Их использовали до появления опасных для эксплуатации дефектов, потом списывали.
Полеты выполнялись ночью, одиночными связками с интервалами между ними. Всего в группе могло быть до десятка связок.
Планерист ориентировался по пламени из выхлопных патрубков моторов самолета. Связи между ним и буксировщиком не было, общение только условными световыми сигналами и знаками. Цель обозначалась на местности кострами, выложенными определенным образом. О моменте отцепки пилоту сообщали миганием аэронавигационными огнями. Далее он действовал самостоятельно. Предстояло в темноте найти площадку, определиться с направлением захода и собственно приземлиться, по возможности не разбив аппарат. Тем временем буксировщик сбрасывал тот груз, что перевозил сам, и уходил домой.

По расчетам штабов, задача считалась выполненной, если в назначенное место прибывал один планер из трех. Таким образом, сразу ориентировались на две трети потерь!
После приземления планер разгружали. В большинстве случаев буксировщик с партизанской площадки взлететь не мог, поэтому планер сжигали, а пилот оставался в отряде, пока его не вывозил какой-нибудь самолет. Если места хватало, буксировщик садился и увозил планер обратно, заполненный ранеными.
За 60 боевых вылетов к партизанам были доставлены 142 человека, 4 т взрывчатки, 12000 ручных гранат, 100 противотанковых ружей, 95 минометов, 1900 автоматов, 700 винтовок, 95000 патронов, 3 т медикаментов и другие грузы, в том числе и пищевая соль. Всего в период с 6 по 20 марта 1943 г. было израсходовано 65 планеров А-7 и Г-11. Перевезли 60 т разных грузов, пять типографий и 10 радиостанций, доставили 106 человек руководящего состава, высадили десант из 150 гвардейцев-подрывников. В тыл врага десантировались отдельные диверсионные группы. Из партизанского района вывезли 65 пилотов-планеристов, 19 партизан, 800 кг ценного груза и 2 миллиона рублей, собранных населением и партизанами на постройку самолетов. Партизаны районов Селявщина и Бегомль в результате операции получили оружия и боеприпасов больше, чем за весь предыдущий год.
Вторая крупная планерная операция по снабжению партизан началась в конце апреля 1943 г. и проводилась до весны 1944 г. Ей предшествовала тщательная подготовка летного состава и материальной части. Был проанализирован и учтен опыт предыдущих полетов в тыл врага, в значительной мере переработана тактика полетов, улучшено оборудование планеров и самолетов-буксировщиков. В 1-м и 2-м полках к выполнению боевых заданий в сложных условиях дополнительно подготовили около 300 планеристов и примерно столько же закончили учебу в СВАПШ. На этот раз вместе с А-7 и Г-11 использовались тяжелые двадцатиместные планеры КЦ-20, поступившие во 2-й оапп; буксировщиками были СБ и Ил-4. Аэродромами подскока служили Старая Торопа, Лужки и Адреаполь.
К партизанам вылетали большими группами. Стартовали примерно за полчаса до наступления сумерек, линию фронта пересекали уже в темноте, на цель выходили ночью. Самолеты, отцепив планеры, возвращались домой перед рассветом. Летчики проводили в воздухе по шесть-семь часов. Спали днем, урывками, избегали выходить на солнце, чтобы не нарушалась аккомодация глаз в темноте.
С 19 апреля по 20 мая 1943 г. в 20 боевых вылетах пилоты 2-го оапп доставили партизанам 19 т вооружения и других предметов снабжения, в том числе средства связи и пропагандистские материалы. Буксировка выполнялась самолетами Ли-2, СБ или ДБ-3Ф (Ил-4).
В ночь на 23 мая 1943 г. отбуксировали сразу 18 планеров. На них перебросили 119 десантников и 2100 кг груза, по большей части взрывчатки. Из тыла противника в ту же ночь вывезли 26 планеристов. На следующую ночь эти летчики опять отправились к партизанам с грузом оружия, боеприпасов и медикаментов.
Всего в тыл врага были отбуксированы 135 планеров, загруженных боевым снаряжением. Перевозили командиров, диверсионные группы, медикаменты, а также продукты питания, в которых партизаны очень нуждались. Вот выдержка из докладной записки с указанием груза, полученного народными мстителями за одну ночь: «Винтовок -420 шт., пулеметов ДП — 21, дисков — 84, автоматов — 240, минометов 50-мм — 7; патронов винтовочных, для ТТ, браунингов, наганов — 1433940; гранат Ф-1, РГД, ПГ — 3820; мин 50-мм — 1288, ПМК-40 — 1900; ружей ПТР- 50, патронов к ним — 7760; тола — 450 кг; приборов Брамит — 450; соли — 480 кг; мыла — 690 кусков; медикаментов — 15 тюков; табаку — 65 кг; МУВ — 320 шт.; питания к рациям — 5; бикфордова шнура — 200 м; посылок детям — 700 кг; литературы — 1337 кг…»

Были случаи самопроизвольных отцепок планера от самолета, обрывов тросов, а также блуждания из-за плохой погоды. Однажды планер сержанта Ю. Соболева из-за неисправности буксировочного замка отцепился от самолета за 60 км от партизанской площадки на небольшой высоте. Внизу лес, но планерист не растерялся и выполнил посадку на берегу озера. Он сел на территории, занятой врагом. Соболев разгрузил планер и спрятал все в вырытую им за ночь яму. Пока заваливал ее землей и маскировал, силы иссякли. Заполз в мелкий ельник, положил под голову автомат и мгновенно уснул.
Счастье, что бесшумно планирующий А-7 враги не засекли. Проснувшись, летчик сориентировался и пошел искать партизан. Он наткнулся на их дозоры и попал в расположения бригады Героя Советского Союза В. Лобанка. Через ночь группа партизан на телегах вывезла в бригаду весь спрятанный груз. Соболева наградили орденом.
В ходе операции в тыл к противнику отправились и три КЦ-20. 19 апреля один из них, вылетевший из Киржача, потерпел катастрофу на оперативном аэродроме Белейки. В условиях плохой видимости командир экипажа старший сержант А.К. Данков, выполняя заход на посадку с попутным ветром, не рассчитал глиссаду и врезался в лес. При этом погиб сам командир и инженер 173-го сбап капитан Алексеев.
Немцы боролись с планерными перевозками всеми средствами, в том числе строили ложные площадки. Пилот Педченко после отцепки приземлился на одну из них. Фашисты сразу составили листовку, суть которой состояла в том, что пилот сознательно перелетел к немцам и призывает к этому своих товарищей. Для восстановления его честного имени была организована разведывательная операция, в которой участвовал планерист И. Альбистеги (испанец). Он нашел ложную площадку в 30 километрах от настоящей. Площадка-ловушка оказалась маленькой, в густом лесу. Оказалось, что планер Педченко врезался в деревья и был полностью разбит. По состоянию аппарата и груза стало ясно, что планерист погиб при посадке. Об этом и было доложено руководству.
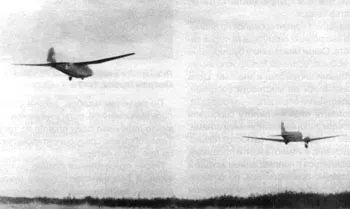
В ряде случаев немецкие самолеты пристраивались в хвост к «воздушному поезду», который приводил их к партизанскому аэродрому. Тогда посадка производилась под вражескими бомбами. Были эпизоды, когда десантники из окон и люков вели огонь из своего оружия по самолетам противника в воздухе. Такого не отмечалось ни у союзников, ни у немцев.
Вылетали планеры и на снабжение партизанских отрядов в Литве. Литовские партизанские отряды состояли из остатков частей Красной Армии, попавших в окружение при отступлении в 1941 г. — местное население с фашизмом практически не боролось. В одном из вылетов в эти края доставили члена правительства Советской Литвы М.Ю. Шамаускаса. Это был своего рода политический ход — мол, Советская Литва хотя и временно оккупирована, но у нее есть правительство. Планер с Шамаускасом долетел благополучно, однако летевший следом за ним погиб. Третий почти коснулся земли, но напоролся на огромный валун и был сильно поврежден.
Всего в ходе операции по доставке грузов партизанам (примерно за год) погибли 13 планеристов.
Применяли планеры и для перевозок грузов в прифронтовой зоне. Так, 10 ноября 1943 г. П. Тетерев и И. Мазеев в паре за одним самолетом СБ вылетели на прифронтовой аэродром Белорусского фронта. Погода была плохая. Аэропоезд оказался выше облаков. Часа через два летчик-буксировщик Кренин и его штурман Царик потеряли ориентировку и взяли обратный курс на восток. Длительное время летели вне видимости земли, устали. Нырнули в просвет облаков, снизились. Вышли на двухколейную железную дорогу, по ней на Ярославль, а затем на свой базовый аэродром.
Мазеев от большой усталости (полет продолжался более четырех часов) дальше уже лететь не мог, отцепился и сел, считая, что совершил вынужденную посадку. Позже он признался Тетереву, что своего аэродрома не узнал, да и куда приземлился, видел плохо. Через два дня, 13 ноября, они в том же составе повторили полет. Погода снова была сложной, но все же до цели долетели. От снегопада на планерах забились и замерзли трубки Пито и Вентури; как следствие — отказали указатели скорости и высоты. Пришлось планеристам садиться, определяя высоту на глазок, а скорость на слух. Мазеев, видимо, допустил ошибку, потерял скорость на четвертом развороте и свалился в штопор. Не хватило ему сил и опыта на эти два изнурительно сложных полета…
Рейсы в немецкий тыл продолжались. Осенью 1943 г. 1-й оапп под командованием А.Д. Кузнецова снова перебазировали в Старую Торопу. Оттуда 15 буксировщиков СБ и 35 планеров А-7 и Г-11 забрасывали разведывательно-диверсионные группы в тылы 16-й немецкой армии.
С наступлением зимы белорусские партизаны оборудовали другой аэродром, на большом озере вблизи Ушачского льнозавода, в 100 км к западу от Витебска. Эта площадка действовала до весны 1944 г. Снега на льду было мало, и на него успешно приземлялись планеры, тяжелые самолеты на колесах и легкие — на лыжах.
В середине марта в одну из ночей в Ушачи опять стартовали аэросцепки. Первой вылетела четверка А-7 — их тянули бомбардировщики СБ. Планеры пилотировали сержанты Тетерев, Карасев, Дедюлин и Матвеев. А-7 Тетерева был загружен толом и противотанковыми гранатами так, что пилоту пришлось залезать в кабину не через дверь, а через снятый плексигласовый колпак фонаря.
На высоте 3000 м четверка подошла к расчетной точке отцепки, и пилоты увидели на земле мерцающие огни в виде буквы «Т». Миганием ручного фонаря стрелок-радист буксировщика подал планеристу команду на отцепку. Тетерев, не без труда рассчитав посадку, приземлился около третьего костра. «За мной идут еще три!» — сообщил он подбежавшим партизанам. Но его товарищи не прилетели — один разбился в 5-7 км от площадки, второй планер сорвался с троса во время выполнения противозенитного маневра, однако груз удалось передать другому партизанскому отряду, а у третьего обрыв буксира произошел над линией фронта; он сел, к счастью, на нашей стороне.
В феврале — апреле 1944 г. 1-й оапп работал в полосе 1-го Прибалтийского фронта. Полк потерял три экипажа, но доставил партизанам 41 т вооружения, боеприпасов и других грузов.
Последний полет на планере к партизанам Белоруссии в район Ушачи совершил А. Синицын в апреле 1944 г. На этом боевые планерные операции в Великой Отечественной войне закончились.
Оценив вклад планеров в развитие партизанского движения, правительство наградило конструкторов планеров O.K. Антонова и В.К. Грибовского медалями «Партизан Великой Отечественной войны».
ДЕСАНТ ПОД КАНЕВОМ
8 июля 1943 г. проводились учения ВДВ РККА на аэродроме Гаврилов Посад. Сначала осуществили выброску парашютного десанта, осуществившего захват посадочной площадки, на которую затем с помощью планеров были доставлены основные силы и тяжелые грузы. В этих учениях, наряду с А-7 и Г-11, участвовали планеры КЦ-20.
Советские планеры один-единственный раз участвовали в крупном воздушном десанте — высадке на правом берегу Днепра 24 — 25 сентября 1943 г. Планом предусматривалось в течение двух дней провести тактический десант в районе Букрина и Канева в тылу у немецких войск. Целью операции была дезорганизация тыла противника, оттягивание на себя войск с фронта, облегчая тем самым форсирование Днепра частями Красной Армии.
Для выброски воздушного десанта выделили 150 бомбардировщиков Ил-4 и В-25, 180 транспортных Ли-2 и С-47. Авиация ВДВ использовала 10 Ил-4 (для выброски снаряжения, легких орудий и буксировки планеров), а также 35 планеров А-7 и Г-11. Задействовали в операции в основном летчиков-буксировщиков и планеристов 1-го оапп, но были и прикомандированные из других подразделений.
Базами являлись четыре аэродрома — Лебедин, Смородино, Богодухов и Крапивное, находившиеся на удалении примерно 200 км от района выброски. Это позволяло в течение одной ночи производить два-три вылета. Посадка планеров с артиллерией на борту намечалась в промежутках между сбросом парашютистов.
Операцию подготовили из рук вон плохо, к этому добавилась постоянная спешка. Вместо запланированных 6598 парашютистов сбросили только 4575 человек, из них 230 — над своей территорией. Пилоты не имели опыта десантирования, под огнем противника они сбрасывали их с высоты 2000 м вместо 600 м. Из-за навигационных ошибок часть бойцов приземлилась прямо на немецкие позиции, а остальные рассеялись в полосе длиной 100 км. Естественно, что десантники не смогли собраться в единое целое, и в дальнейшем вынуждены были действовать разрозненными группами. Все это привело к большим потерям.
Что касается действий планеров в этой операции, то сохранился рассказ одного из участников — А. Бурашникова. Его Г-11 был отбуксирован на аэродром подскока Крапивное экипажем летчика Агапова. Там в него загрузили пушку (по-видимому, 45-мм) вместе с расчетом. Когда настало время вылета, планер подцепили к другому самолету. Его летчика спросили: «А раньше вы с планерами летали?» В ответ услышали: «Подумаешь, невидаль! Я с бомбами летал, а уж вас как-нибудь дотащу».
Погода была очень ветреная, с порывами. Летчику буксировщика, видимо, надоела болтанка, и он, решив поскорее добраться до места, увеличил скорость. Планер ее не выдержал. У Г-11 сначала отлетел элерон, потом крыло, а затем весь он развалился… Сам Бурашников получил тяжелые травмы, но остался жив.
В последующие дни планеры использовались для доставки снаряжения и медикаментов некоторым подразделениям десантников. Пересекали Днепр ночью, а потом садились в просеки или прямо на лес. Немногие планеры попадали на поляны, некоторые разламывались при посадке и из них высыпался драгоценный груз, гибли люди, как, например, пилот Агеев, придавленный минометом. Благополучно приземлились Ю. Никашев, М. Куров, В. Выгонов. К сожалению, многие имена героев, пилотов-планеристов, участвовавших в Днепровской операции, остались неизвестны. В дальнейшем вплоть до победы над Германией Красная Армия не проводила воздушно-десантных операций.
СОВЕТСКИЕ ПЛАНЕРНЫЕ ЧАСТИ В КОНЦЕ ВОЙНЫ
В 1944 г. планерные полки были переформированы. В июне 1944 г. 1-й оапп перебазировался в Клин, где получил самолеты Ил-4, а 10 октября его преобразовали в 208-й гв. апдд, включив в состав 19-й гв. аддд. 13 декабря того же года полк перевели в Могилев.
2-й оапп в октябре 1944 г. был преобразован в 209-й гв. апдд на Ил-4. Им тогда командовал майор Ф.С. Карпенков. 118 планеристов направили в Бердскую авиашколу первоначального обучения. Планеры списали как пришедшие в негодность. С ноября полк базировался в г. Старый Быхов.
Однако в начале 1945 г. был сформирован 45-й учебно-тренировочный авиапланерный полк (45-й утапп). С 25 февраля им командовал майор З.П. Медведев. Туда перевели часть опытных планеристов из 208-го и 209-го полков. Эта часть в 1947 г перебазировалась в Торжок, где стала осваивать тяжелый планер Ц-25.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование планеров в Великой Отечественной войне показало их высокую надежность и достаточную эффективность при грамотном применении. Вскрылись и существенные недостатки. Главным было отсутствие радио- или телефонной связи с экипажем буксировщика. А связь была необходима, особенно при длительных полетах в тыл врага. Много ли информации можно передать, мигая фонариком через остекление кабины? Экипажи буксировщика и планера должны тесно взаимодействовать и знать о намерениях друг друга, в противном случае возможен был обрыв буксировочного троса. Добиться подобного взаимодействия без связи было трудно. Буксировочные замки на самолетах пломбировались, чтобы доказать, что летчик не сбросил планер, где попало. Иначе — трибунал. Однако случались обрывы тросов по техническим и погодным причинам. В общем, вопреки стремлению к тотальной экономии, от радиостанции отказываться не следовало. Хотя стоит заметить, что их в то время не хватало всем родам войск, да и работали они плохо. А вот протянуть телефонный кабель вдоль троса было вполне возможно.

Вторым недостатком планеров были сквозняки, гуляющие по всему фюзеляжу. Особенно тяжело приходилось зимой при длительных полетах. Несмотря на теплое обмундирование, пилот и десантники промерзали до костей. Встать и размяться в полете было невозможно — не хватало места. Так что перед посадкой экипаж с энтузиазмом высматривал посадочные костры, возле которых надеялся отогреть замерзшие руки. Впрочем, зачастую надежды эти были тщетны — партизаны после посадки костры сразу тушили.
Третьей проблемой стали узкие двери, в которые с трудом протискивали бочку, миномет или другой габаритный груз. Особенно это сказывалось у КЦ-20, не позволяя полностью использовать его значительную грузоподъемность. На Г-11 этот недостаток устранили в модификации 1944 г., когда грузовую дверь расширили до 1400 мм. Но вот в войне такие планеры практически участия не приняли.
Самым тяжелым советским планером являлся КЦ-20. В других странах подобные аппараты относили к среднему классу. «Настоящие» тяжелые планеры у англичан и американцев, а особенно у немцев могли перевозить не только артиллерию, но и автомобили, и даже танки. В СССР подобная техника появилась уже в послевоенный период.
Конечно, масштаб планерных операций в Советском Союзе в ходе Второй мировой войны был меньше, чем у союзников, но наши пилоты-планеристы и десантники внесли достойный вклад в общую Победу.







